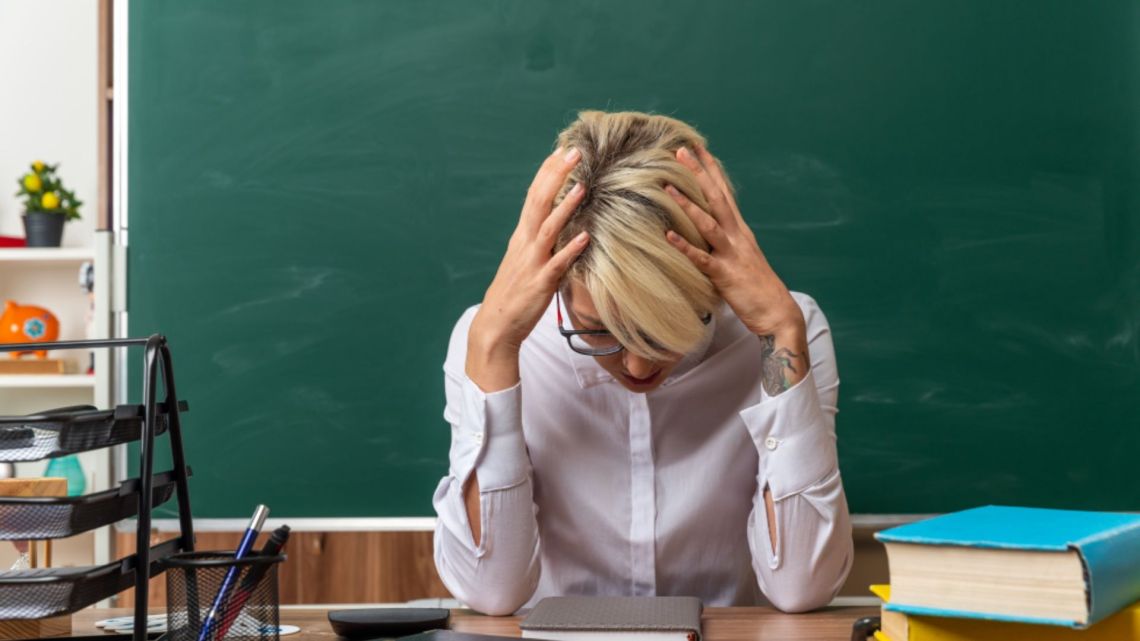
«Здесь и дети, и родители с особенностями»: Питер глазами учителя
.
Если московская школа — это место предоставления образовательных услог, то петербургская — скорее хранилище педагогических традиций.
«РосБалт» продолжает цикл интервью с переехавшими в Северную столицу жителями других регионов самых разных профессий. На этот раз мы поговорили с Еленой, учителем русского языка и литературы, которая работала в школах Вологды, затем Москвы, а последние несколько лет — Петербурга.
Оглавление
ToggleЗдесь растят интеллигентных людей
— Расскажите, как вы оказались в городе на Неве и что стало первым впечатлением от местной школы?
— Я переехала несколько лет назад по личным обстоятельствам. Первое впечатление от петербургской школы — ощущение возвращения к истокам, но на новом уровне. В Вологде чувствовались камерность, теплота, но иногда и некоторая провинциальная ограниченность. Москва — это драйв, инновации, колоссальные ресурсы, но и невероятная конкуренция, порой бездушная гонка за рейтингами. А петербургская школа была местом, где ценятся глубина, традиция и интеллект. Здесь есть некая академичность, уважение к знаниям как таковым, а не только к «баллам» или «показателям». Но и требовательность здесь особая — и к себе, и к ученикам.
— Как отличается отношение родителей к учителю и к образовательному процессу в городах, где вы работали?
— Разница колоссальная.
В Вологде родители, как правило, более доверчивы. Они в большинстве своем считают, что учитель лучше знает, как учить, и реже вмешиваются в методику. Зачастую это проявлялось как искреннее уважение к статусу учителя, но иногда и как пассивность — мол, школа сама справится. Были, конечно, и те, кто приходил с претензиями, но это скорее исключение.
В Москве ситуация в корне иная. Там очень много родителей с активной, иногда даже агрессивной позицией. Они часто подкованы, требовательны, готовы оспаривать оценки, вмешиваться в учебный план, требовать индивидуального подхода к своим детям. Часто родители воспринимают школу как место предоставления услуг и ждут максимального результата — высоких баллов, поступления в топовые вузы. Это стимулирует, но и выматывает, превращая учителя в «менеджера по образованию».
В Петербурге я наблюдаю что-то среднее, но со своим колоритом. Здесь родители, как правило, очень начитанные люди, с высшим образованием, часто — не одним. Они ценят глубину, осмысленность, умение учителя «зажечь» ребенка, а не просто «напичкать» информацией. Они тоже требовательны, но не столько к оценкам, сколько к качеству обучения, к развитию личности ребенка. Они могут задавать грамотные вопросы по программе, предлагать совместные проекты. Это не так изматывает, как московская «гонка за результатом», но требует от учителя постоянной готовности к диалогу на высоком уровне. Чувствуется, что родители хотят, чтобы их дети не просто сдали ЕГЭ, а стали интеллигентными людьми. Не все, конечно — «предъявляющих» тоже хватает.
— А что «предъявляют»?
— Бывает, родители выговаривают, что времена изменились и школа должна просто оказывать образовательные услуги. А вы, мол, детям до сих пор по старинке про душу рассказываете.
Помню, как однажды ко мне после родительского собрания подошла очень интеллигентная мама ученицы 10 класса. Ее дочь всегда была одной из лучших, но я в какой-то момент увидела, что она слишком зациклена на оценках и совершенно перестала получать удовольствие от чтения, от самого процесса познания. Я попыталась с ней поговорить, дать задание, которое бы ее немножко «раскрыло», заставило подумать шире. В итоге оценка за это задание была не «пять», а «четыре с плюсом».
Мама достаточно вежливо, но очень твердо сказала: «Я прекрасно понимаю, что вы тут стараетесь, и я ценю ваш энтузиазм. Но нас интересует конкретный результат. Мы ожидаем, что наш ребенок будет максимально подготовлен к поступлению в топовый вуз. А вы тут факультативные вещи про Достоевского, про внутренний мир, про какие-то дискуссии, про широкий подход. Это все, конечно, очень хорошо, но ЕГЭ требует конкретных знаний и умения правильно формулировать по шаблону, а не рассуждений о душе или творческих изысканий. Мы не можем рисковать ее будущим ради ваших экспериментов. И для поступления в вуз это лишнее».
Было непросто. Я ответила, что понимаю ее беспокойство о будущем ребенка и о результатах ЕГЭ. Однако моя задача как учителя — не только подготовить к экзамену, но и научить думать, чувствовать, развивать критическое мышление, привить любовь к чтению и познанию, развить индивидуальность. Мы же хотим вырастить человека, который сможет ориентироваться в этом мире, который будет интересен себе и другим — и которому будет интересно жить. Мне кажется, мама девочки задумалась. По крайней мере, после этого мы стали чаще общаться, и ее отношение стало чуть менее потребительским, что ли.
Такие маленькие, но уже такие разные
— А что насчет самих детей? Есть ли отличия в отношении к учебе, в уровне подготовки, в поведении между школьниками в столице и в регионах?
— Дети, конечно, везде дети, но среда влияет на них очень сильно.
Вологодские дети часто более непосредственные, открытые, менее избалованные. Они, может быть, не всегда обладают таким широким кругозором, как столичные, но зато часто очень искренне реагируют на материал, готовы слушать. Средний уровень подготовки был примерно одинаковым, без особых прорывов, если только ребенок сам не был очень мотивирован.
Московские школьники — это зачастую «бойцы». При этом инфантилов как раз больше в Москве, чем в регионах. Но в столице привыкли к конкуренции, к большому объему информации. Многие уже с начальной школы посещают десятки кружков, репетиторов. Они эрудированы, быстро схватывают, но иногда им не хватает глубины, умения думать, а не просто запоминать. Высокий темп жизни отражается и на их поведении — они более подвижны, иногда гиперактивны, требуют постоянной стимуляции.
Петербургские дети часто более вдумчивые, спокойные, любознательные. У них уже есть некий культурный бэкграунд. Они задают нетривиальные вопросы, готовы спорить, рассуждать. Это дети, которые часто уже читают «взрослые» книги, интересуются историей, искусством. Им важно узнать не только что, но и почему. С ними интереснее работать. Конечно, это не касается 100% учеников, но общая тенденция такова. Поведение более дисциплинированное, но не из страха, а из уважения к процессу.
Профессия обесценивается, мотивации нет
— А если сравнить статус учителя? Чувствуется ли разница в социальном положении педагога в зависимости от региона?
— Я думаю, что статус учителя — это очень болезненная тема для всей России. Но нюансы есть.
В Вологде учитель — это уважаемый человек, к чьему мнению прислушиваются. Увы, это не проявлялось в высоких зарплатах, но давало моральное удовлетворение. Была некая общинность: учитель — это часть сообщества.
В Москве статус очень расслоился. В элитных школах учителя получают хорошие зарплаты, имеют доступ к ресурсам, их уважают, но скорее как «специалистов высокого класса». В обычных школах статус может быть низким, а зарплата хоть и выше региональной, но несоразмерна с объемом работы и уровнем жизни в столице. Там все очень ориентировано на результат: если ты репетиторствуешь и готовишь стобалльников, то будешь по-своему уважаем.
В Петербурге учитель, особенно словесник, историк, воспринимается как носитель культуры, интеллекта, как преемник великой педагогической традиции. Есть незримое уважение к знаниям, к слову, к способности формировать личность. К сожалению, это не всегда конвертируется в достойную оплату труда. Моральный статус высок, а вот материальный… Как и везде, зарплаты в школах далеки от идеала, особенно для молодых специалистов. Это приводит к нехватке кадров.
— Давайте подробнее остановимся на причинах дефицита учителей.
— Причин много, и они комплексные.
Во-первых, деньги. Молодой специалист, окончивший вуз, приходит в школу на зарплату, которая едва позволяет ему жить в таком дорогом городе, как Петербург, особенно если приходится снимать жилье.
Во-вторых, нагрузка. Это не только уроки, но и бесконечная бумажная работа, отчеты, заполнение электронных журналов, подготовка к внеурочной деятельности, олимпиадам, родительские собрания, дежурства… Учитель работает, конечно, не 40 часов в неделю, а гораздо больше.
В-третьих, эмоциональное выгорание. Постоянное общение с большим количеством детей, родителей, коллег, необходимость быть всегда в тонусе, решать конфликтные ситуации — это очень истощает. Отсутствие поддержки, непонимание со стороны руководства или родителей добивают.
В-четвертых, бюрократия. Никто не понимает, зачем тратить часы на отчеты, которые никто не читает, если это время можно было бы посвятить подготовке к урокам или работе с детьми?
В-пятых, отсутствие адекватных перспектив карьерного и финансового роста. Максимум, что светит — стать завучем или директором, а это чаще всего означает еще больший объем административных проблем. Зарплата растет крайне медленно и никогда не становится сопоставимой с аналогичным уровнем ответственности и квалификации в других сферах.
Возникает ощущение полного обесценивания профессии. Учителя все чаще воспринимают как «обслуживающий персонал», который обязан предоставить «образовательную услугу» по стандарту. Это убивает мотивацию. Учитель зажат в жесткие рамки федеральных программ, учебников, бесконечных мониторингов и проверок. Ему диктуют, как учить, что говорить, как заполнять документы. Мало места для собственного метода, для импровизации, для того, чтобы «зажечь» ребенка. Многие приходят в школу с горящими глазами, с идеями, а система их гасит бюрократией и формализмом.
При этом Петербург предлагает множество других, более высокооплачиваемых и менее стрессовых сфер деятельности для образованных людей. Раньше, если учитель уходил, то чаще всего искал школу получше, с более сильным коллективом, лучшим руководством или просто ближе к дому. Сейчас же происходит именно исход из профессии.
— И куда уходят?
— Репетиторство — это, пожалуй, самый очевидный путь. Работаешь с мотивированными учениками, выбираешь удобное время, нет никакой бюрократии, зарплата может быть в разы выше.
Вузы — для тех, кто хочет остаться в академической сфере, но работать со взрослыми, иметь больше свободы в исследованиях и преподавании. Плюс есть коммерческие образовательные проекты, онлайн-школы — там предлагают новые технологии, гибкий график, часто и более высокую оплату.
А многие просто уходят в совершенно другие сферы, где их образование и навыки — например, аналитические и коммуникационные способности — ценятся и оплачиваются гораздо лучше. Это очень печальная тенденция, и если мы ее не переломим, то школы будут просто опустошены.
— А как вы оцениваете качество учебных материалов, и есть ли отличия в выборе учебников или подходе к ним в петербургских школах?
— С учебниками ситуация сложная. Мы все сейчас работаем по федеральному перечню, и выбор становится все более ограниченным. Но даже внутри этого перечня школы Петербурга часто стараются выбирать те линейки пособий, которые позволяют давать более глубокие знания, стимулируют мышление, а не простое запоминание. Например, по русскому языку и литературе здесь часто предпочитают учебники, которые предполагают более серьезную аналитическую работу, больше внимания уделяется классике, культурологическому контексту.
Но в целом качество учебников оставляет желать лучшего. Многие из них перегружены информацией, при этом подают материал сухо, без души. Нет единой, логичной линии из класса в класс. Приходится дорабатывать, искать дополнительные материалы, заниматься поиском информации в интернете, в книгах. Это тоже ложится на плечи учителя. Мечтаю о том, чтобы у нас появились учебники, которые бы не только передавали информацию, но и прививали любовь к предмету, учили бы детей думать, анализировать, спорить.
Петербургское образование «уже не то»?
— Как бы вы описали профессиональное сообщество учителей в Петербурге по сравнению с вашим предыдущим опытом?
— Сразу вспомнила свои первые дни в питерской школе. Одна коллега мне задушевно так рассказывала: «И педагоги у нас хорошие, и часто собираемся по разным поводам, и директор душевный, и столовая прекрасная. Вот детей бы только этих не видеть…» Но если серьезно, то коллектив — это половина успеха и половина комфорта в работе.
В Вологде коллективы были очень сплоченные, почти семейные. Возможно, это ограничивало приток новых идей, но создавало теплую атмосферу. В Москве коллективы более динамичные, но иногда и более разобщенные. Много молодых, амбициозных учителей, есть обмен опытом, но часто есть и конкуренция.
В Петербурге же коллективы очень сильные в плане профессионализма и интеллектуального уровня. Здесь очень много учителей, которые обладают глубокими знаниями своего предмета, искренне любят его. С ними интересно обсуждать методику, литературу, историю. Чувствуется, что они не просто «отрабатывают часы», а живут своей профессией. Здесь ценят педагогические династии, передачу опыта. При этом есть определенная доля консервативности, «старой школы», но в хорошем смысле — как бережное отношение к традициям, к академической строгости. Это очень вдохновляет и заставляет тянуться к их уровню. Но так же, как и везде, есть и равнодушные, и уставшие от профессии.
— Какие проблемы, на ваш взгляд, стоят сегодня именно перед петербургским образованием?
— Во-первых, устаревшая материальная база во многих школах. Многие школы находятся в исторических зданиях, которым требуется серьезный ремонт, обновление оборудования.
Во-вторых, разница в уровне школ. Есть очень сильные лицеи и гимназии, куда стремятся попасть все, где кипит жизнь. Но есть и обычные районные школы, которые испытывают трудности и с набором учеников, и с привлечением хороших учителей. Это создает социальное неравенство в доступе к качественному образованию.
В-третьих, «музейность», порой перерастающая в закостенелость. Уважение к традициям — это замечательно, но иногда оно мешает внедрению новых методик, современных подходов. Не все готовы меняться, использовать цифровые технологии, экспериментировать.
В-четвертых, как ни парадоксально, культурный перегруз. Детей водят в музеи, на выставки, в театры. Это прекрасно, но иногда становится «обязаловкой», которая отнимает время у обычной школьной программы и перегружает детей. Важно найти баланс.
— Есть что-то, что делает образование в Петербурге уникальным?
— Главное — это связь с культурой и историей города. Но это в идеале. Уроки литературы здесь должны быть не просто про Пушкина или Достоевского, а про «пушкинский Петербург», про «Петербург Достоевского». Дети ходят по тем же улицам, видят те же дома, проходные дворы. Мы можем пойти на урок в Эрмитаж, в Русский музей, в музей-квартиру Блока. Это не просто «экскурсия», а погружение в контекст, которое делает предмет живым и осязаемым.
Но на деле очень часто рассказываешь обо всем, пытаешься увлечь, а тебе отвечают: «К нам сегодня какое это отношение имеет?»
Да, от коллег я знаю, что в школах была особая атмосфера интеллигентности. И в учительских, и в ученических коллективах часто чувствовалось уважение к знаниям, к хорошей речи, к искусству. Это мотивировало и детей, и учителей соответствовать этому уровню. Но сегодня петербургский дух уже не так ощущаешь.
Николай Яременко




